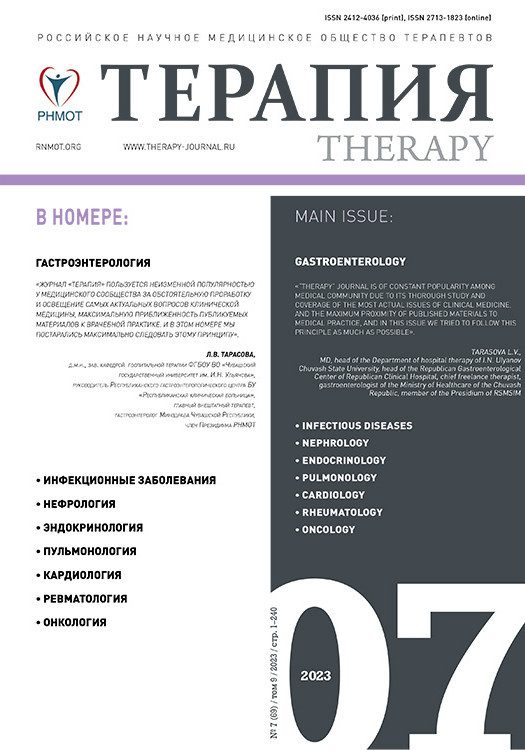ВВЕДЕНИЕ
Ишемический инсульт (ИИ) – одна из наиболее частых причин наступления летального исхода и стойкой инвалидизации [1, 2]. На сегодняшний день ИИ рассматривается как клинический синдром, обусловленный резким падением локального мозгового кровотока в области, кровоснабжаемой окклюзированным сосудом. Существует около сотни причин, приводящих к нарушению проходимости сосудов внеи внутримозговой локализации. Основными из них являются тромбоз крупного сосуда, артериальная эмболия и поражение артерий малого калибра (микроангиопатия) [3]. Нарушение проходимости сосуда может быть обусловлено сочетанием перечисленных факторов или редкими причинами, например, такими как диссекция стенки артерии, тромбоз на фоне заболеваний крови, онкологических заболеваний, аномалии развития сосудистого русла или миокарда, в том числе не заращенное овальное отверстие и др.
Вне зависимости от причины нарушения поступления крови к определенной области головного мозга критическое снижение кровотока приводит к сходным патофизиологическим процессам, которые могут рассматриваться в рамках концепции патобиохимического каскада [4]. Следует отметить, что многие ключевые его биохимические процессы были описаны и детально изучены в 80–90-х гг. прошлого столетия выдающимся патофизиологом Bo Sjeso (1930–2013). Одно из наиболее тяжелых и грозных последствий дефицита поступления в ткань мозга кислорода и глюкозы – нарушение энергозависимого функционирования ионных насосов мембраны нейрона (показано, что до 80% всей энергии, расходуемой головным мозгом, тратится именно на транспорт ионов калия в клетку и ионов натрия – из клетки). Нарушение работы ионных насосов влечет за собой неконтролируемое поступление в нейрон ионов натрия, вместе с которыми поступает большое количество воды. Развивающийся отек вызывает нарушение целостности клеточных мембран и мембран органелл, и в итоге – гибель клетки [5]. Нарушение ионного транспорта усугубляется переходом энергетического метаболизма нейронов на анаэробный путь, который, в отличие от аэробного, обеспечивает синтез значительно меньшего количества АТФ, но приводит к образованию и накоплению в ткани большого количества молочной кислоты [6]. Закисление внутриклеточной среды ведет к повышению осмолярности цитоплазмы, поступлению в ткани избыточного количества воды и прогрессированию отека. Одновременно активируются процессы перекисного окисления липидов (оксидативный стресс) с повреждением липидных и белковых структур. Выход ионов кальция из эндоплазматического ретикулума сопровождается их неконтролируемым поступлением в митохондрии, что еще в большей степени нарушает процессы образования энергии (синтез АТФ). Кроме того, кальций активирует липолитические ферменты, что приводит к деструкции клеточных мембран. Несомненное повреждающее действие оказывает и выброс в синаптическую щель возбуждающих нейротрансмиттеров, в первую очередь глутамата [7]. Концентрация его в синаптической щели в этой ситуации многократно превышает физиологическую; это чревато повреждением постсинаптического нейрона, что позволяет говорить о глутаматергической нейротоксичности. Необходимо отметить, что сам по себе глутамат и глутаматергическая передача сигнала – исключительно важные компоненты нормального функционирования головного мозга млекопитающих, а повреждающее действие глутамата реализуется исключительно при очень высоких его уровнях.
Патологические процессы, обусловленные острой ишемией головного мозга, запускают сложный комплекс отсроченных последствий, в том числе воспаление, апоптоз и другие виды запрограммированной энергозависимой клеточной гибели, и в конечном итоге нейродегенерацию [8, 9]. Таким образом, повреждение нервной ткани при ИИ включает острый ишемический некроз (инфаркт), обусловленный дефицитом энергии, и отсроченную гибель клеток уже вследствие других причин. Острая ишемия, инициируя патобиохимический каскад, в последующем, в отдаленном периоде ишемии, утрачивает свою ведущую роль в поражении вещества мозга. Важно, что некоторые процессы, которыми нервная ткань реагирует на ишемическое повреждение, например, воспаление, носят, несомненно, положительный характер и способствуют реорганизации ткани. С другой стороны, избыточная пролонгированная воспалительная реакция может сама превращаться в повреждающий фактор [10].
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Понимание механизмов повреждения нервной ткани в условиях ишемии, в частности выделение процессов острого и отсроченного повреждения, представляется принципиально важным для разработки направлений лечения ИИ. Необходимо четкое понимание того, что лечебные мероприятия, способные спасти от гибели нейроны и клетки глии в условиях острой ишемии, скорее всего, не смогут повлиять на последующие процессы восстановления нарушенных функций.
На сегодняшний день достигнуты несомненные успехи лечения пациентов с острым ИИ. Современные технологии восстановления кровотока по окклюзированному сосуду позволяют сохранить жизнеспособность участка ткани головного мозга, снабжаемого кровью из пораженной артерии, избежать формирования очагового неврологического дефицита или в значительной степени уменьшить его выраженность. С этой целью наиболее широко применяются введение тромболитических препаратов (тромболитическая терапия, ТЛТ) или механическое удаление из просвета сосуда тромботических масс (тромбоэкстракция), однако последний метод проводится значительно реже [11, 12]. Возможно одновременное применение двух указанных методов лечения. Несмотря на несомненную эффективность ТЛТ, доказанную результатами большого числа рандомизированных клинических исследований, существует целый ряд серьезных ограничений для ее использования, что не позволяет рассматривать ТЛТ в качестве универсального способа лечения пациентов с ИИ [6]. К наиболее важным и распространенным противопоказаниям для проведения ТЛТ относятся значительный промежуток времени от момента развития окклюзии сосуда и появления неврологического дефицита до начала лечения, сопутствующие заболевания, ассоциированные с повышенным риском геморрагических осложнений ТЛТ.
Исключительно серьезной проблемой ИИ является формирование стойкого неврологического дефицита, значительно ограничивающего возможности повседневной активности пациента, который зачастую нуждается в постоянной посторонней помощи.
РОЛЬ НЕЙПРОТЕКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА
В свете вышесказанного вполне закономерен интерес, который вызывают препараты, потенциально способные повысить выживаемость клеток в условиях ишемии и обеспечить компенсацию нарушенных неврологических функций. Исключительное внимание исследователей и клиницистов на протяжении нескольких десятилетий привлекает проблема применения препаратов группы нейропротекторов [13, 14].
Исходя из особенностей эффектов, которые эти препараты оказывают на ткань головного мозга, можно выделить непосредственно нейропротекторы, а также лекарственные средства, потенциально способные обеспечить восстановление структуры и функции нервной ткани (нейрорепаранты). Применение нейропротекторов при остром ИИ способно ограничить очаг повреждения. Это может быть достигнуто за счет влияния препаратов на различные звенья патобиохимического каскада. Так, положительный эффект может быть обусловлен снижением потребности головного мозга в кислороде и глюкозе, устранением повреждающего действия свободных радикалов, перекисного окисления липидов, уменьшением выброса в синаптическую щель возбуждающих нейротрансмиттеров (глутамата, аспартата). Таким образом, основная цель нейропротекции заключается в снижении энергетических затрат, что позволяет мозговой ткани перенести острую ишемию и гипоксию с минимальными потерями [15]. В последующем, после восстановления достаточного кровотока, выжившие клетки способны вернуться к нормальному уровню энергопотребления и функционирования, обеспечив тем самым восстановление нарушенных неврологических функций.
Целью применения нейрорепарантов является стимуляция процессов нейропластичности, к которым относятся формирование новых отростков нейрона (арборизация), их прорастание в паренхиму головного мозга (спраутинг), образование новых связей с другими нейронами (синаптогенез), активация синапсов и поддержание устойчивых связей между нейронами (потенциация синапсов). В значительной степени процессы нейропластичности облегчаются при восстановлении баланса различных нейротрансмиттеров [16, 17].
Сама по себе нейропластичность является неотъемлемым свойством нервной ткани, которое обеспечивает поддержание ее структуры как на уровне отдельных клеток, так и головного мозга в целом. Важно отметить, что это реализуется на фоне изменяющихся условий внешней среды и воздействия разнообразных химических веществ, модулирующих активность нервной ткани [18, 19]. Необходимо учитывать, что сама по себе нейропластичность или ее активация не служат залогом восстановления нарушенных неврологических функций. Нейропластичность может носить неадаптивный (мальадаптивный) характер, при этом ее активация может иметь не только компенсаторный характер, но, напротив, приводить к формированию совершенно негативных состояний [20]. Так, именно вследствие мальадаптивной нейропластичности возможно развитие таких тяжелых последствий ИИ и других очаговых поражений головного мозга, как эпилепсия, мышечная спастичность, некоторые психические и эмоциональные нарушения. Нейропластичность представляет собой основу, правильно используя которую для решения определенных задач можно добиться восстановления нарушенных функций.
В связи с этим следует подчеркнуть, что полноценное и эффективное проведение реабилитационных мероприятий у больного, перенесшего ИИ, возможно в том случае, когда медикаментозная стимуляция нейропластичности проводится в комбинации с нелекарственными способами лечения (эрготерапией, лечебной гимнастикой и др.). Сочетание лекарственных методов стимуляции нейропластичности и нелекарственного лечения способно обеспечить построение новых устойчивых межнейронных связей, лежащих в основе формирования или восстановления нарушенных двигательных и чувствительных навыков, когнитивных функций [21–23]. Несомненно, что результат комбинированного восстановительного лечения зависит также от расположения и объема очага инфаркта, исходного состояния головного мозга, наличия сопутствующих соматических и неврологических заболеваний, генетических особенностей пациента. По данным многочисленных клинических исследований, ряд которых описан ниже, проведение комбинированных реабилитационных мероприятий позволяет добиться положительного эффекта у значительного числа пациентов, перенесших ИИ.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ® В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Для лечения пациентов с острой и хронической ишемией головного мозга широко применяется российский оригинальный препарат Мексидол® (этилметилгидроксипиридина сукцинат). Препарат обладает мощным антиоксидантным, антигипоксантным и мембраностабилизирующим эффектами и оказывает выраженное нейропротекторное действие. Значительный интерес представляет способность Мексидола оказывать модулирующее действие на различные нейротрансмиттерные системы головного мозга (ацетилхолинергические, дофаминергические и др.), с чем, вероятно, связан ряд ценных фармакологических и клинических эффектов препарата [24]. Мексидол® продемонстрировал выраженное нейропротективное действие, которое было установлено при лечении пациентов с острым ИИ. Его применение, начиная с первых суток заболевания, приводило к быстрому регрессу общемозговой симптоматики, уменьшению выраженности очагового неврологического дефицита, снижению летальности [25]. Несомненный положительный эффект Мексидола, назначаемого в раннем периоде ИИ, был подтвержден в результате мультицентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования ЭПИКА, выполненного в строгом соответствии с требованиями доказательной медицины [26]. Мексидол® показал высокую эффективность и безопасность на фоне проведения ТЛТ у пациентов с острым ИИ [27]. Комбинированная терапия, включавшая тромболизис и Мексидол®, обеспечивала не только более полное восстановление нарушенных неврологических функций, но и снижение частоты осложнений.
Проведенные в последующем многочисленные исследования подтвердили эффективность Мексидола и в лечении пациентов с хроническими расстройствами мозгового кровообращения [28, 29]. Согласно результатам международного многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования оценки эффективности и безопасности последовательной терапии пациентов с хронической ишемией мозга препаратами Мексидол® и Мексидол® ФОРТЕ 250 (исследование МЕМО), применение Мексидола по схеме 500 мг внутривенно в течение 2 нед с последующим назначением препарата Мексилол® Форте по 250 мг 3 раза/сут на протяжении 2 мес сопровождалось значительным улучшением когнитивного статуса пациентов. Наряду с этим наблюдался значимый регресс выраженности эмоциональных, вегетативных и двигательных нарушений у пациентов с хронической ишемией мозга [29].
Вполне закономерно, что доказанные положительные эффекты Мексидола, которые он оказывает у пациентов в острой стадии ИИ и у больных с хроническими цереброваскулярными расстройствами, являются основанием для изучения его использования в процессе реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
Одно из первых исследований, посвященных возможности применения Мексидола при проведении реабилитации пациентов, перенесших острый ИИ, имело открытый сравнительный дизайн [30]. В рамках этого исследования наблюдались 440 пациентов, перенесших ИИ, которые были распределены на две сопоставимые по основным клинико-демографическим характеристикам группы. Участники основной группы, кроме базисной терапии, получали Мексидол®, который назначался на протяжении 1, 6 и 12-го месяца после перенесенного ИИ. В течение первого месяца препарат назначался внутривенно капельно по 400 мг (после разведения в физиологическом растворе) ежедневно на протяжении 15 сут; на 6-й месяц – по 200 мг внутривенно капельно ежедневно на протяжении 10 сут; на 12-й месяц – по 200 мг внутривенно капельно ежедневно 10 сут. Больные группы сравнения, в свою очередь, получали базисную лекарственную терапию, включающую препараты для контроля артериального давления, антиагреганты, средства для нормализации уровня глюкозы и липидов крови. Обязательным условием исследования, наряду с медикаментозным лечением, было применение максимально стандартизированного комплекса различных методов физической, психотерапевтической и нейропсихологической реабилитации. Динамику восстановления нарушенных вследствие ИИ неврологических функций оценивали при помощи индекса Бартел (ИБ), шкалы Линдмарка и Скандинавской шкалы инсульта.
Как показали результаты исследования, применение Мексидола привело к статистически значимому улучшению результатов реабилитационных мероприятий и более полному восстановлению нарушенных неврологических функций при сопоставлении с группой сравнения (р <0,0001). Так, значительное восстановление нарушенных функций, обеспечивающее достаточный уровень независимости в повседневной жизни, имело место у 60% пациентов основной группы и только у 23,6% в группе сравнения (p <0,01). Также у пациентов, получавших Мексидол®, наблюдалось значительное повышение уровня повседневной бытовой адаптации, о чем свидетельствовало увеличение значений индекса Бартела (р <0,0001). Суммарно у 65,5% пациентов основной группы было отмечено полное восстановление бытовой адаптации, тогда как в группе сравнения этот показатель составил лишь 33,2% (р <0,005). Результаты проведенного исследования убедительно продемонстрировали целесообразность назначения Мексидола на различных этапах восстановительного лечения у пациентов, перенесших инсульт. Необходимость его применения обусловлена совокупностью перечисленных положительных эффектов, включая регресс очагового неврологического дефицита и когнитивных нарушений, что в итоге способствует повышению качества жизни пациентов.
Данное исследование также представляет особый интерес в связи с получением результатов, свидетельствующих о значительном положительном влиянии Мексидола на выраженность проявлений синдромов игнорирования и отталкивания (СИ и СО соответственно). Хорошо известно, что СО и СИ как по отдельности, так и в комбинации способны значительно замедлять процессы восстановления пациента, перенесшего инсульт, затрудняют и нередко делают невозможным проведение реабилитационных мероприятий, ухудшая в итоге прогноз заболевания. В рамках проведенного исследования авторы предприняли попытку оценить, насколько применение Мексидола, наряду с физическим и нейропсихологическим методами нейрореабилитации, облегчает коррекцию проявлений СО и СИ.
Для решения поставленной задачи авторами было выполнено двухэтапное исследование. На первом этапе оценивалось влияние СИ и СО на уровень восстановления бытовой адаптации пациентов, перенесших инсульт. Было установлено, что СО и в несколько меньшей степени СИ связаны со статистически значимым снижением эффективности проводимых реабилитационных мероприятий у пациентов, перенесших ИИ. Как СИ, так и СО оказались ассоциированы со значительным ограничением восстановления неврологических функций, а также снижением уровня бытовой адаптации пациентов. Отсутствие СИ и СО оказалось статистически значимо связано с улучшением результатов реабилитационных мероприятий, в частности с повышением степени восстановления нарушенных неврологических функций (р <0,0001; J=38,0 и 43,5%), а также увеличением уровня бытовой адаптации (р <0,0001; J=48,7 и 52,5%). На втором этапе исследования оценивалось влияние препарата Мексидола на выраженность СО и СИ. У значительной части включенных в исследование больных наблюдалось уменьшение выраженности или полное купирование проявлений СИ (р <0,001). Так, в группе пациентов, получавших Мексидол®, СИ сохранялся у 29,3% пациентов. Среди больных, не получавших Мексидол® в рамках комплексной терапии, этот синдром наблюдался в 58,8% случаев. Наиболее существенное влияние Мексидола регистрировалось в первую очередь в отношении таких проявлений СИ, как гемиигнорирование, зрительное угасание и анозогнозия. Кроме того, при применении Мексидола регистрировалось статистически значимое уменьшение представленности феноменов аллоэстезии, тактильного угасания и такого варианта расстройства схемы тела, как отрицание принадлежности конечностей своему телу. Также использование Мексидола оказалось тесно связанным с уменьшением представленности СО у наблюдавшихся пациентов (отличия носили статистически значимый характер по сравнению с исходным уровнем, р <0,05). Применение Мексидола оказывало значимое положительное влияние на способность поддержания равновесия в положении стоя и сидя, а также было связано со значительным улучшением показателей, характеризующих состояние устойчивости (р <0,05).
Наиболее значимым результатом данного исследования стало установление эффективности применения Мексидола на различных этапах реабилитации у пациентов, перенесших инсульт. Показана целесообразность его применения на протяжение не менее года после острого периода заболевания, что значительно расширяет временны'е рамки реабилитационного процесса. Также продемонстрировано положительное влияние Мексидола не только на темпы и степень регресса моторных и сенсорных нарушений, развившихся вследствие перенесенного инсульта (что в целом было известно и ранее), но и на такие сложные, трудно курабельные нарушения, как расстройства схемы тела и феномен игнорирования. Положительная динамика указанных нарушений позволяет рассматривать назначение Мексидола в качестве нового подхода к восстановительному лечению данной когорты пациентов. Важно отметить, что авторы рекомендуют применять Мексидол® в сочетании с использованием возможностей современных методов физической реабилитации, психотерапии, нейропсихологического лечения.
Значительный интерес представляют результаты субанализа итогов двойного слепого рандомизированного многоцентрового плацебо-контролируемого исследования эффективности и безопасности Мексидола ЭПИКА [31]. Целью его явилось изучение эффективности длительной последовательной терапии Мексидолом у пациентов различного возраста в остром и раннем восстановительном периодах каротидного ИИ [32]. Всего в исследование были включены 150 больных обоих полов, строго соответствовавших представленным авторами критериям включения. Пациенты были рандомизированы в две группы: основная группа получала Мексидол® по 500 мг/сут внутривенно капельно на протяжении 10 сут («фаза насыщения терапевтическим эффектом»), в последующем продолжила пероральный прием Мексидола по 125 мг (1 таблетка) 3 раза/сут в течение 8 нед («фаза максимизации терапевтического эффекта»). Пациенты из группы сравнения по аналогичной схеме получали плацебо. Популяцию ITT (Intent to treat population) составили больные, которым была введена как минимум одна доза Мексидола или плацебо, популяцию PP (Per protocol population) – пациенты, получившие препарат в соответствии с протоколом исследования (n=124). Особое внимание было уделено ответу на проводимую терапию в зависимости от возраста пациентов. С этой целью были выделены три подгруппы больных: моложе 60, 60–75 и 76–90 лет.
Первичным критерием оценки эффективности проводимой терапии служил результат оценки состояния пациентов по модифицированной шкале Рэнкина (мШР) на момент окончания исследования. Вторичными критериями оценки эффективности выступали индекс Бартел (ИБ), опросник для определения когнитивных нарушений, батарея тестов оценки лобной дисфункции, шкала депрессии Бека (ШДБ), Европейский опросник оценки качества жизни (EQ-5D). С учетом исключительной роли сахарного диабета (СД) как фактора риска развития острых и хронических расстройств мозгового кровообращения особое внимание уделялось влиянию терапии Мексидолом на течение заболевания у пациентов с расстройствами углеводного обмена.
Статистически значимых различий между основной группой и группой сравнения по половому составу, среднему возрасту, уровням систолического и диастолического артериального давления, частоте сердечных сокращений, концентрации в крови глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низкой плотности получено не было. Число пациентов, которым была проведена тромболитическая терапия, составило 20,7 и 16% в двух группах соответственно (p >0,05).
При оценке состояния пациентов по мШР статистически значимых различий между группами в зависимости от возраста больных (как в популяции PP, так и ITT) на протяжении всего периода наблюдения выявлено не было. У пациентов основной группы в возрасте 76–90 лет (в популяциях как PP, так и ITT) имели место статистически значимые снижения показателей по мШР (p <0,001), в том числе на момент окончания исследования, по сравнению с исходным уровнем (эти отличия носили статистически значимый характер).
При оценке динамики состояния пациентов популяции ITT на основании результатов тестирования по мШР в когорте больных моложе 60 лет было отмечено статистически значимое снижение показателя как в основной группе, так и в группе сравнения, на протяжении всего периода исследования (p <0,001). Среди пациентов в возрасте 60–75 лет в основной группе уменьшение показателей по мШР к окончанию исследования оказалось статистически значимо более выраженным, чем в аналогичной возрастной когорте группы сравнения (разница оценки на момент начала исследования и его окончания между группами составила 0,461 балла; 95% доверительный интервал (ДИ): 0,06–0,862; р=0,025). Полученные данные свидетельствуют о более выраженном восстановлении неврологических функций на фоне применения Мексидола. Авторы отмечают, что у пациентов обеих групп исследования, страдающих сахарным диабетом, восстановление неврологических функций оказалось замедленным по сравнению с больными без нарушений углеводного обмена. Тем не менее к окончанию периода исследования у пациентов основной группы в возрасте 60–75 лет с сахарным диабетом показатели по мШР оказались статистически значимо ниже, чем в группе сравнения (разница средних составила 1,056; 95% ДИ: 0,024–2,087).
При изучении динамики показателей по мШР в популяции PP было установлено, что у пациентов основной группы в возрасте 60–75 лет показатели снизились статистически значимо более выраженно, чем у больных аналогичного возраста из группы сравнения (разница средних показателей – 0,461; 95% ДИ: 0,06–0,862; p=0,008). Как и в популяции ITT, темпы восстановления неврологических функций у пациентов с сахарным диабетом носили замедленный характер. Вместе с тем к окончанию исследования показатели по мШР у больных основной группы оказались статистически значимо ниже при сопоставлении с исходным уровнем, а также ниже, чем у пациентов аналогичного возраста в группе сравнения (p <0,001).
Среди включенных в исследования пациентов в возрасте 76–90 лет статистически значимая положительная динамика к окончанию периода исследования наблюдалась только в основной группе (различия были достоверны при сопоставлении как с исходным уровнем, так и с группой сравнения, p <0,001). Авторы не установили влияние имеющегося сахарного диабета на динамику восстановления неврологических функций в этой возрастной подгруппе. При оценке вторичных критериев оценки эффективности проводимой терапии авторы не смогли выявить возрастных отличий динамики показателей ИБ, по субшкалам ШДБ, опроснику EQ-5D. Было установлено, что во всех анализируемых возрастных подгруппах пациентов в обеих группах регистрировалась статистически значимая положительная динамика в виде нарастания значений ИБ (p <0,05 по сравнению с исходным уровнем). В когорте пациентов в возрасте 60–75 лет, страдающих сахарным диабетом, процессы восстановления протекали медленнее, о чем свидетельствовало менее выраженное нарастание показателей ИБ. Вместе с тем у больных основной группы с сахарным диабетом к окончанию периода исследования прирост значений ИБ оказался статистически значимо более выраженным при сопоставлении с исходным уровнем, а также выше, чем в группе сравнения (p=0,023).
При оценке выраженности депрессивных нарушений выяснилось, что в подгруппах пациентов моложе 60 и 60–75 лет в обеих группах к окончанию периода исследования регистрировалось статистически значимое увеличение числа больных с без признаков симптомов депрессии по ШДБ по сравнению с исходным уровнем. В когорте пациентов старшего возраста (76–90 лет) основной группы также наблюдалось статистически значимое снижение частоты депрессивных расстройств, которое отсутствовало в группе сравнения. Более выраженная редукция депрессивных нарушений была характерна для пациентов в возрасте моложе 60 и 60–75 лет вне зависимости от характера проводимой терапии. При этом в аналогичных возрастных когортах группы сравнения положительная динамика оказалась значительно менее выраженной, и на момент окончания исследования число пациентов с депрессивными нарушениями оказалось большим, чем в основной группе.
Регресс очагового неврологического дефицита, улучшение эмоционального состояния, расширение двигательной активности и восстановление способностей к самообслуживанию вполне закономерно сопровождались повышением показателей качества жизни пациентов. При их оценке с помощью опросника EQ-5D было установлено, что наиболее выраженная динамика имела место у пациентов моложе 60 лет и в когорте 60–75 лет в обеих группах. К окончанию периода исследования значения статистически значимо отличались от исходных, при этом более выраженный прирост показателей имел место в основной группе (р <0,001). В когорте пациентов в возрасте 76–90 лет статистически значимая положительная динамика отмечалась только в основной группе. На момент последнего осмотра после окончания курса терапии показатели по опроснику EQ-5D у этих пациентов оказались значительно выше исходного уровня (р <0,01), а также выше, чем в группе сравнения (р <0,05). Аналогичным образом у пациентов в возрасте 60–75 лет, страдающих сахарным диабетом, наиболее значимый прирост показателей качества жизни был зарегистрирован на момент окончания исследования. Значения по опроснику EQ-5D на этот период статистически значимо превышали исходный уровень, а также соответствующие показатели у больных группы сравнения, страдающих сахарным диабетом (р <0,01).
При раздельном анализе субшкал опросника EQ-5D было выявлено, что по разделу «передвижение» у пациентов обеих групп в возрасте моложе 60 и 60–75 лет имело место значительное расширение мобильности, регистрировалось увеличение доли пациентов с полным отсутствием нарушений способности к передвижению; при этом отличия носили статистически значимый характер по сравнению с исходным уровнем и существенным образом не отличались в двух группах. В когорте пациентов 76–90 лет статистически значимая положительная динамика по сравнению с исходными показателями регистрировалась только в основной группе (р=0,011). Сходная динамика наблюдалась и при анализе динамики по домену «самообслуживание». У пациентов моложе 60 и 60–75 лет отсутствие нарушений самообслуживания практически с равной частотой отмечалось в обеих группах к окончанию периода обследования, при этом результаты обследования статистически значимо отличались от исходного уровня (р <0,001). В когорте пациентов в возрасте 76–90 лет только в основной группе было выявлено достоверное увеличение доли пациентов с полным восстановлением способности к самообслуживанию.
На фоне проводимой терапии авторы также отметили статистически значимую тенденцию к улучшению состояния когнитивных функций. Положительная динамика вне зависимости от использованного метода обследования имела место в обеих группах, однако более раннее и полное их восстановление наблюдалось в основной группе. Наиболее выраженные признаки восстановления когнитивных функций отмечались в старшей возрастной подгруппе пациентов основной группы (отличия к моменту окончания исследования носили статистически значимый характер, р <0,005).
По результатам исследования была установлена хорошая переносимость проводимой терапии Мексидолом. Вне зависимости от способа введения препарата (внутривенно или перорально) характер и частота нежелательных явлений существенным образом не отличались между группами. Тяжелые нежелательные явления, связанные с проводимой терапией, в обеих группах отсутствовали. Полученные данные позволили авторам сделать вывод о том, что использование Мексидола является эффективным и безопасным при восстановительном лечении пациентов, перенесших острый каротидный ИИ. Представляется важным, что положительный эффект наблюдается вне зависимости от соматической отягощенности, в частности от наличия или отсутствия сахарного диабета 2-го типа, а также у пациентов различных возрастных групп. Также необходимо подчеркнуть, что максимальный положительный эффект длительной последовательной терапии Мексидолом достигается при одновременном применении широкого спектра немедикаментозных способов лечения, включающих эрготерапию, лечебную гимнастику физиотерапию, когнитивный тренинг и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о высокой значимости проблемы постинсультной инвалидизации и о сложности механизмов ее формирования. Современные методы реабилитации позволяют добиться выраженного положительного эффекта у значительной части пациентов, перенесших ИИ. Повышению эффективности восстановительных мероприятий способствует курсовое применение последовательной терапии препаратом Мексидол®, который следует назначать внутривенно капельно по 500 мг на протяжении 14 сут, затем перорально по 250 мг 3 раза в день на протяжении не менее 2 мес. При необходимости курсы применения препарата Мексидол® могут проводиться повторно.