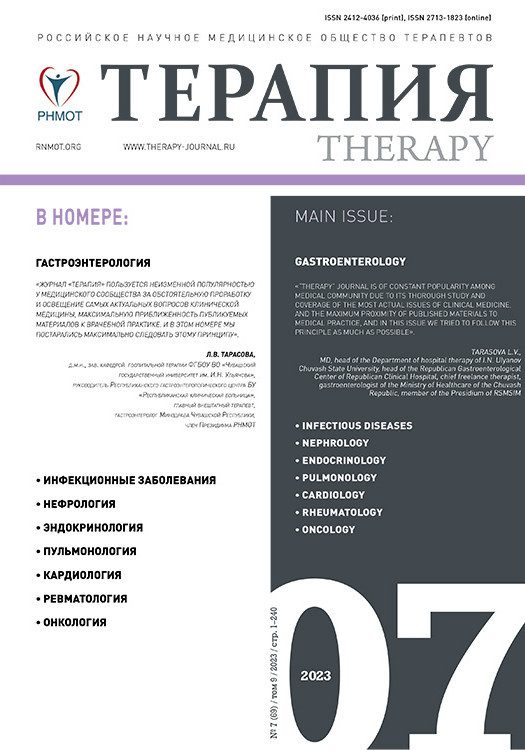ВВЕДЕНИЕ
Современная классификация фибрилляции предсердий (ФП) включает 5 форм аритмии – впервые диагностированную, пароксизмальную, персистирующую, длительно персистирующую и постоянную форму [1]. Возникновение этой аритмии значительно ухудшает качество жизни пациентов и прогноз. Длительное персистирование ФП приводит не только к выраженным изменениям электрофизиологических свойств предсердий, но и способствует аритмогенному ремоделированию сердца.
Независимо от продолжительности аритмии любой эпизод ФП, зарегистрированный впервые на электрокардиограмме (ЭКГ), относят к впервые выявленной ФП. При пароксизмальной форме ФП приступ аритмии прекращается самопроизвольно или дополнительным вмешательством в течение 7 сут от начала эпизода. Персистирующая форма ФП длится более 7 дней и не прекращается самостоятельно; в этом случае для восстановления синусового ритма всегда используют медикаментозную или электрическую кардиоверсию. О длительно персистирующей форме ФП говорят только в том случае, когда длительность аритмии составляет более одного года и пациенту рекомендована стратегия контроля синусового ритма. Постоянную форму ФП диагностируют, когда пациентом и врачом совместно принято согласованное решение не осуществлять попыток восстановления/удержания синусового ритма, когда попытки восстановления и удержания синусового ритма оказались безуспешными, а аритмия сохраняется длительное время [1]. С течением времени ФП может переходить из пароксизмальной в персистирующую или постоянную формы [2].
В последние годы доказано, что существует определенная закономерность в многолетнем течении ФП – от бессимптомных, коротких эпизодов аритмии, до устойчивой постоянной формы ФП, которая создает предпосылки к прогрессированию ХСН и значительно ухудшает прогноз пациентов [3]. Продолжительность существования пароксизмальной или персистирующей формы ФП у разных больных может варьировать в большом диапазоне – от нескольких месяцев до десятилетий – и взаимосвязана с тяжестью основного заболевания. Пароксизмальная ФП сохраняется в течение нескольких десятилетий лишь у небольшой части пациентов. По данным ряда исследований, частота перехода ФП из персистирующей в постоянную форму составляет от 20 до 30% в течение 1–3 лет наблюдений [4].
Более 30% больных с ФП имеют бессимптомное течение заболевания и могут не знать о нем [5]. Бессимптомные пароксизмы ФП могут возникать при пароксизмальной или персистирующей форме аритмии, что определяет необходимость назначения антикоагулянтной терапии для профилактики тромбоэмболических осложнений.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эволюция течения ФП была продемонстрирована в работе Veasey R.A. et al. по данным имплантированных устройств записи ЭКГ для удаленной передачи данных [6]. В исследование было включено 356 пациентов с ФП, средний возраст которых составил 79,5±8,9 лет, а продолжительность наблюдения – 7,2±3,1 лет. На момент включения в исследование у 314 (88,2%) пациентов была диагностирована пароксизмальная форма ФП, 42 (11,8%) больных имели персистирующую ее форму. Через несколько лет наблюдения пароксизмальная форма ФП была диагностирована у 192 (53,9%), персистирующая – у 77 (21,6%), длительно персистирующая и перманентная – у 87 (24,4%) пациентов. Независимыми предикторами прогрессирования пароксизмальной формы ФП в персистирующую были мужской пол, увеличение размеров левого предсердия и высокая частота желудочковых сокращений (ЧЖС). Авторы сделали вывод, что при многолетнем наблюдении у подавляющего большинства пациентов пароксизмальная форма ФП переходила в персистирующую [6].
В работе Im S.I. et al. изучались факторы прогрессии ФП из пароксизмальной в персистирующую форму. В исследование вошли 434 больных с пароксизмальной формой ФП (средний возраст 71,7±10,7 лет, 60% мужчин). У 168 (38,7%) пациентов через 72,7±58,3 мес наблюдения была диагностирована прогрессия аритмии из пароксизмальной в персистирующую или перманентную форму. Среднее значение прогрессии достигало 10,7% в год. По мнению исследователей, независимыми факторами прогрессии ФП выступают индекс массы тела, пожилой возраст, наличие предсердной аритмии на протяжении всего периода наблюдения, величина фракции выброса левого желудочка, гипертрофия левого желудочка и выраженная митральная регургитация [7].
Проект RecordAF можно считать одним из наиболее масштабных исследований по изучению эволюции естественного течения ФП [4]. На протяжении 12 мес проводилось наблюдение 2137 больных с впервые выявленной ФП. Прогрессирование аритмии наблюдалось у 318 (15%) пациентов. Независимыми предикторами прогрессии ФП при проведении многофакторного анализа оказались артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и стратегия контроля ЧЖС. Авторы пришли к заключению, что длительная антиаритмическая терапия для удержания синусового ритма способствует сохранению пароксизмальной формы ФП на более продолжительный период [4].
В исследовании Euro Heart Survey on AF изучались факторы прогрессирования аритмии и прогноз пациентов с различными формами ФП. Продолжительность наблюдения составила 1 год, общее количество обследуемых – 4192 больных [9]. Данные о клиническом состоянии пациентов были получены путем анализа медицинских карт и бесед с ними. На момент включения у 17% больных наблюдалась впервые возникшая, у 28% – пароксизмальная, у 21% – персистирующая, у 27% – перманентная форма ФП.
На протяжении 12 мес наблюдения у 20% пациентов с пароксизмальной формой ФП регистрировалась прогрессия в персистирующую форму аритмии, а у 30% персистирующая форма ФП трансформировалась в постоянную. У 46% больных с впервые выявленной формой ФП рецидивов аритмии не отмечалось. Общая смертность у пациентов с постоянной формой ФП составила 8,2 против 5,7% при рецидивирующих формах аритмии [8].
В ретроспективном анализе подисследования Euro Heart Survey, охватившего 1219 пациентов с пароксизмальной формой ФП, были обнаружены наиболее значимые факторы прогрессии ФП и предложена шкала риска прогрессирования заболевания в постоянную форму [8]. Перманентная форма ФП через 12 мес наблюдения была диагностирована у 178 (15%) больных. Возраст старше 75 лет, ХСН, предшествующая тромбоэмболия или инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и артериальная гипертензия выступали основными факторами прогрессии ФП. Была разработана формула шкалы HATCH: 1 × (hypertension) + 1 × (age >75 years) + 2 × (stroke or TIA) + 1 × (COPD) + 2 × (heart failure), где hypertension – артериальная гипертензия; age >75 years – возраст старше 75 лет; stroke or TIA – инсульт или транзиторная ишемическая атака; COPD – хроническая обструктивная болезнь легких; heart failure – ХСН. Значения шкалы HATCH в диапазоне 6–7 определяют высокую вероятность (более 50% случаев) перехода пароксизмальной формы ФП в постоянную в течение ближайшего года. В заключение авторы анализа отмечают, что применение параметров шкалы HATCH позволит наиболее точно устанавливать вероятность перехода ФП в более устойчивые формы [3].
Противоречивые данные о применении шкалы HATCH были опубликованы американскими исследователями в 2015 г. [10]. На основании регистра американской базы данных пациентов с ФП (Outcomes Registry for Better Informed Treatment of AF, ORBIT-AF) был выполнен крупнейший ретроспективный анализ по изучению эволюции клинического течения ФП. Общее количество пациентов, включенных в исследование, составило 6235, длительность наблюдения – 18 мес. Переход ФП в длительно персистирующую или перманентную формы наблюдался у 1479 (23,7%) больных [9].
При анализе результатов исследования было показано, что в группе пациентов, у которых не отмечалась прогрессия ФП (I группа), в 77% случаев была диагностирована пароксизмальная форма ФП. Это было достоверно больше, чем в группе пациентов с выявленной прогрессией ФП (II группа), где аналогичный показатель был равен 70%. Группы имели достоверные различия по длительности существования аритмии, частоте приступов ФП и назначения антиаритмических препаратов – 41 против 30% (р <0,05) [9].
Для анализа степени риска перехода ФП в более устойчивые формы авторы использовали шкалу HATCH. Статистическая обработка полученных результатов на большой выборке из 6235 пациентов регистра ORBIT-AF позволила сделать вывод, что при значениях 5–7 по шкале HATCH не более чем у 20% пациентов наблюдались эволюция клинического течения ФП и появление более стойких ее форм.
В том же исследовании было доказано, что прогрессия из пароксизмальной в длительно персистирующую или перманентную форму ФП наблюдается в течение 18 мес у каждого пятого пациента. К основным факторам такой прогрессии относятся возраст, ХСН и высокая ЧЖС. При этом шкала HATCH имеет небольшую чувствительность и специфичность в определении риска прогрессирования ФП [9].
Результаты приведенных исследований [3–9] свидетельствуют, что прогрессия ФП от пароксизмальной к постоянной форме аритмии может не только ухудшать клинический статус пациентов, но и негативно влиять на их прогноз. В исследовании RecordAF при изучении влияния на прогноз различных стратегий медикаментозного лечения ФП прогрессирование заболевания было выявлено у 318 (15%) больных за 12 мес наблюдений [4]. Независимыми предикторами прогрессии ФП, по мнению авторов, были ХСН, артериальная гипертензия и назначение стратегии контроля ЧЖС. В заключение авторы отметили, что назначение антиаритмической терапии для сохранения синусового ритма способствует уменьшению прогрессирования аритмии в постоянную форму [4].
СВЯЗЬ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Несмотря на то что стратегия удержания синусового ритма является более сложной и не всегда безопасной, а эффективность антиаритмических препаратов достаточно низкая, тем не менее врачи в большинстве случаев выбирают тактику контроля синусового ритма. Вместе с тем стратегия сохранения синусового ритма имеет свои недостатки: большинство антиаритмических средств обладает рядом нежелательных эффектов, а в ряде случаев их назначение может повысить риск общей смертности.
Основная цель медикаментозной тактики контроля синусового ритма в лечении пациентов с ФП – уменьшение яркой клинической симптоматики, возникающей во время пароксизмов аритмии. Поэтому выбор антиаритмического средства осуществляется индивидуально для каждого больного с обязательной оценкой его безопасности [1]. В метаанализе Lafuente-Lafuente С. et al. при изучении данных 56 рандомизированных исследований с включением 20 771 больного ФП было установлено, что минимальное проаритмическое действие вызывают препараты пропафенон и амиодарон [10].
На протяжении и последних лет проводятся все новые и новые попытки создания универсального антиаритмического средства с высоким уровнем противорецидивной эффективности и минимальными побочными эффектами. В исследовании Kirchhof Р. et al. проводилась оценка эффективности и безопасности краткосрочной и длительной антиаритмической терапии у пациентов с ФП [11]. На основании полученных электрофизиологических исследований авторы определили, что через 2–4 нед после восстановления синусового ритма потенциал действия кардиомиоцитов предсердий достигает нормальных значений. Исследователи предположили, что длительное назначение антиаритмических препаратов не совсем оправдано, и эффект от лечения может быть получен только в первые 4 нед после восстановления синусового ритма. В проводимой работе пациенты с персистирующей формой ФП после успешной кардиоверсии были рандомизированы в три группы: контрольную группу без назначения антиаритмической лекарственной терапии, группу краткосрочного лечения флекаинидом в суточной дозе 200–300 мг в течение 4 нед и длительного лечения флекаинидом на протяжении 6 мес. Рецидивы ФП возникали достоверно чаще в группе участников, не получавших антиаритмической терапии – 72%, тогда как в группах с краткосрочным и длительным приемом флекаинида этот показатель составил 46 и 39% соответственно. Авторы сделали вывод, что длительное назначение антиаритмической терапии может предотвращать бóльшую часть рецидивов ФП [11].
Одной из наиболее современных работ по сравнению двух стратегий лечения ФП стало исследование EAST-AFNET 4 (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial) [12]. В него были включены 2789 пациентов с ФП, продолжительность наблюдения равнялась 5,1 года. С целью сохранения синусового ритма участникам назначались антиаритмические препараты (пропафенон, флекаинид, амиодарон, дронедарон) или проводилась радиочастотная абляция (РЧА). В группе сравнения, где проводилась стратегия контроля ЧЖС, больные не получали антиаритмические препараты и не подвергались РЧА. Авторы пришли к заключению, что назначение антиаритмических препаратов и/или выполнение РЧА у пациентов с недавно диагностированной ФП позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых осложнений по сравнению со стратегией контроля ЧЖС.
Препаратом выбора для лечения сохранения синусового ритма при пароксизмальной и персистирующей форме ФП у больных без тяжелой органической патологии сердца является пропафенон [1]. В исследовании ПРОСТОР пропафенон (Пропанорм) продемонстрировал высокую эффективность в сохранении синусового ритма и лучший профиль безопасности по сравнению с амиодароном. Применение пропафенона (Пропанорма) у больных с сохраненной систолической функцией левого желудочка не ухудшало показатели гемодинамики, а сохранение синусового ритма в течение 12 мес оказывало кардиопротективное действие [13].
Действие пропафенона начинается через 1 ч после приема внутрь, максимальная концентрация лекарственного средства в плазме крови достигается через 2–3 ч и длится 8–12 ч. Пропафенон почти полностью метаболизируется: 53% препарата выводится в виде метаболитов с желчью, 38% – почками. Период полувыведения составляет 6,2 ч. При этом пропафенон лишен кумулятивных свойств [14].
Результаты проведенных клинических исследований доказывают обоснованность назначения пропафенона на протяжении длительного времени, позволяющего замедлить прогрессирование ФП от пароксизмальной к постоянной форме. В нашей клинике описаны случаи успешного сохранения синусового ритма при 10-летнем приеме пропафенона [15]. Одно из несомненных достоинств пропафенона – его высокий профиль безопасности: при длительном приеме препарат не вызывает тяжелых побочных эффектов, а продолжительность его применения не имеет ограничений.
К эффективным антиаритмическим препаратам, доступным на сегодняшний день в нашей стране, относится также амиодарон. Однако для него характерно большое число экстракардиальных побочных эффектов, поэтому в большинстве случаев амиодарон рассматривается как препарат резерва при неэффективности других антиаритмических средств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ результатов многолетних клинических наблюдений и рандомизированных исследований позволяет сделать вывод, что у пациентов с пароксизмальной формой ФП длительное назначение антиаритмической терапии позволяет снизить частоту прогрессирования этого заболевания до устойчивой постоянной формы.