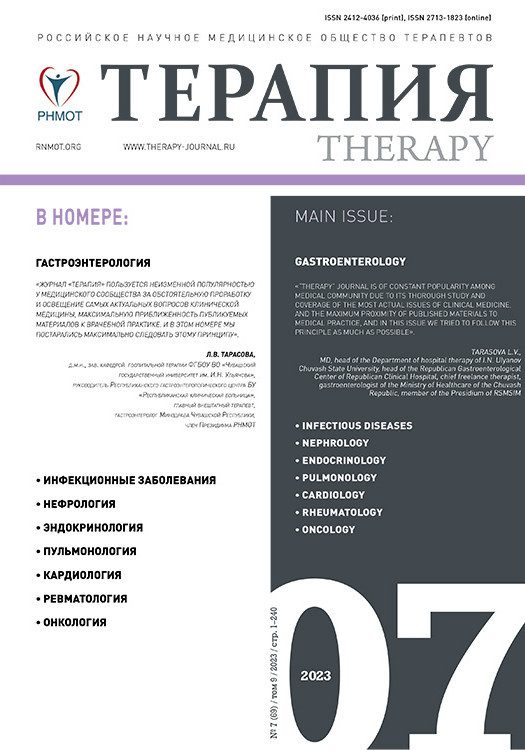АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Опыт использования системных кортикостероидов (КС) в лечении воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) насчитывает более 70 лет. До настоящего времени, несмотря на возможные побочные эффекты и риск развития стероидной зависимости лекарственные средства этого класса, все еще остаются основой для начального лечения активного ВЗК средней и тяжелой степени. Так, в Великобритании при анализе лечения амбулаторных пациентов c ВЗК в 19 центрах за 12 мес установлено, что 28% исследуемых получали системные КС, при этом у 14,8% из них была отмечена зависимость, связанная с назначением избыточных доз препаратов [1].
Представляют интерес и результаты проведенного анализа лечения больных ВЗК за период 2010– 2015 гг. в одной из провинций Канады. По административным данным было выявлено, что из 28 890 исследованных пациентов 50,1% страдали болезнью Крона (БК), и каждый шестой из них получал системные ГКС. По итогам лечения у 8,89% из них развилась стероидозависимость [2].
В ретроспективном обсервационном исследовании с использованием базы Японского центра медицинских данных (JMDC) за период с января 2008 г. по декабрь 2014 г. было проанализировано 399 пациентов с впервые диагностированным язвенным колитом (ЯК). Частота лечения стероидами сразу после постановки диагноза составила 58,4%. Через 6 мес после начала лечения 23,7% пациентов продолжали принимать стероиды, а 73,9% использовали их в высоких дозах [3].
Анализ реальной практики применения КС по промежуточным результатам исследования INTENT (NCT03532932 – международное многоцентровое ретроспективное и проспективное неинтервенционное наблюдательное исследование, проведенное в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан у 706 пациентов старше 18 лет с подтвержденным диагнозом ВЗК) позволил выявить ряд особенностей и негативных моментов такой терапии. Так, половина больных ЯК и БК в рамках множества схем терапии получали более 2 курсов КС в течение рассматриваемого периода времени. В ряде случаев число повторных курсов КС достигало от 5 до 8, а длительность курсов в большинстве схем лечения как ЯК, так и БК, колебалась в интервале от 91 до 209 дней [4].
В первых результатах анализа Национального регистра пациентов с ВЗК в России отмечено, что в лечении этих больных чаще всего использовались опять же стероиды: в 79,3% случаев при ЯК и в 65% при БК [5].
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМНЫХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
Механизм действия системных КС остается до конца не выясненным. Тем не менее к настоящему времени все же удалось раскрыть многие его звенья, что позволило понять общие принципы фармакодинамики КС, особенности развития их побочных эффектов и обосновать выбор лечебных доз и длительность терапии [6–8].
КС – липофильные соединения, которые распределяются по всем тканям организма. Это связано с их очень высокой способностью связываться с белками сыворотки крови. К основным стероидсвязывающим белкам относятся альбумин и транскортин. При использовании низких доз с белком связывается 70–80% поступивших в организм КС. Однако при высоких дозах белковосвязывающая способность КС снижается до 60–70% за счет насыщения транскортинсвязывающих участков и прямой диффузии свободного препарата в ткани. Это приводит к более высокому объему распределения КС в тканях и увеличивает риск развития нежелательных явлений. Сходные процессы могут наблюдаться и у больных с гипоальбуминемией, при которой рекомендуется использовать меньшие дозы КС.
Метаболизм КС происходит в печени путем гидроксилирования и конъюгации. Менее 15% КС выводится в неизмененном виде с мочой. При увеличении концентрации препарата происходит увеличение его клиренса. Однако нарушение общего клиренса заметно только при использовании высоких концентраций КС (преднизолона) – около 70 мг/сут. Увеличение клиренса наблюдается у лиц, длительно получающих препараты этого класса. Изменение кинетики КС в зависимости от дозы является следствием их нелинейного связывания с белками плазмы: при увеличении дозы возрастает количество не связанных с белком КС. В фармакодинамике системных стероидов выделяют геномные и негеномные механизмы действия [9, 10]. Сильные противовоспалительные и иммуносупрессивные эффекты КС опосредуются главным образом цитозольными кортикостероидными рецепторами. Эти рецепторы являются членами семейства рецепторов стероидных гормонов, суперсемейства лиганд-индуцируемых факторов транскрипции и опосредуют свои эффекты через активацию повсеместно экспрессируемых внутриклеточных КС-рецепторов (GRs). Неактивированный GR сохраняется в цитоплазме в виде мультибелкового комплекса, состоящего из белков теплового шока и нескольких киназ сигнальной системы MAPK (митоген-активируемых протеинкиназ). После активации лиганда GR высвобождается из этого комплекса, претерпевает конформационные изменения таким образом, что одни домены рецептора способны специфически связываться с чувствительными элементами ДНК (геномные эффекты КС), а другие (сигнальные компоненты мультибелкового комплекса) взаимодействуют с сигнальными процессами независимыми от транскрипции. После транслокации в ядро GR действует либо как гомодимерный фактор транскрипции, который связывает элементы глюкокортикоидного ответа в промоторных областях генов, либо как мономерный белок, взаимодействующий с другими факторами транскрипции.
В течение десятилетий считалось, что нежелательные побочные эффекты терапии КС индуцируются трансактивацией, опосредованной димерами, тогда как полезные противовоспалительные эффекты в основном обусловлены трансрепрессивным действием GR, опосредованным мономером. Однако некоторые литературные данные подвергают сомнению приведенную фармакодинамическую модель КС, ясно показывая, что GR-зависимая трансактивация, связанная с димером, также имеет важное значение в реализации противовоспалительной активности GR [11].
Концепция GR была подробно рассмотрена в обзоре De Bosscher K. et al. [12]. Передача сигналов посредством GR может приводить либо к активации, либо к подавлению генетической транскрипции. Трансактивация GR воспалительных генов-мишеней вызвана стимуляцией GR активности ДНК-связанных провоспалительных факторов транскрипции, таких как NF-B, фактора регуляции интерферона-3, ядерного фактора активированных Т-клеток, передатчиков сигналов и активаторов транскрипции, Th1-специфических факторов транскрипции T-клеток и другими механизмами. Поскольку указанные факторы транскрипции регулируют экспрессию воспалительных генов, их GR-опосредованное взаимодействие в конечном итоге приводит к подавлению провоспалительных медиаторов и цитокинов (фактора некроза опухолиальфа, гранулоцитколониестимулирующего фактора, интерлейкинов 1, 2, 3, 6, хемокинов), а также экспрессируемых и секретируемых нормальными Т-клетками энзимов, среди которых – индуцируемая синтетаза оксида азота, циклооксигеназа 2-го типа и молекулы адгезии (молекула межклеточной адгезии 1 и молекула адгезии сосудистых клеток 1). Таким образом, трансрепрессия провоспалительных генов-мишеней принята в качестве ведущей парадигмы противовоспалительного и иммуносупрессивного действия GR.
Побочные эффекты КС связаны с трансактивацией GR [13]. Механизм трансактивации GR был идентифицирован для большого разнообразия генов, включающих кодирование ферментов: тирозинаминотрансферазы (участвует в катаболизме аминокислот), глутаминсинтетазы (катаболизм мышц), а также глюкозо-6-фосфатазы и фосфоенолпируваткарбоксикиназы (глюконеогенез). Следовательно, неконтролируемая дисрегуляция этих генов может быть причиной многих эффектов КС, приводящих к нарушению обмена белков, жиров и углеводов. Иногда трудно провести однозначные различия между трансактивацией и трансрепрессией, поскольку GR-коактиватор и GR-взаимодействующий белок 1 выполняют двойную функцию, реализуя разные аспекты действия GR в зависимости от исходного геномного контекста [14].
В отличие от геномных, негеномные эффекты КС не связаны с синтезом белка и проявляются в течение нескольких секунд или минут после активации GR. Таким образом, быстрая негеномная передача сигналов GR добавляет большую сложность и разнообразие биологическим действиям, зависящим от стероидов. Негеномные эффекты ГКС включают неспецифические взаимодействия с клеточной мембраной или специфические взаимодействия с цитозольными GR (cGR) и мембраносвязанными GR (mGR) [15, 16]. В результате физико-химических взаимодействий молекулы КС проникают в плазматические и митохондриальные клеточные мембраны, изменяя их исходные свойства и активность мембраносвязанных белков, что влечет за собой нарушение трансмембранного транспорта катионов и выработки клеточной АТФ посредством окислительного фосфорилирования. Это сопровождается нарушением функционирования мембран, снижением использования АТФ, иммуносупрессией и снижением активности воспалительных процессов.
Быстрые эффекты КС затрагивают пути, регулируемые Ca2+-АТФ-азным насосом, аденилциклазой и протеинкиназами. Особое внимание уделяется MAPK – митоген-активируемым протеинкиназам, которые действуют как точки переключения для множества восходящих сигнальных путей, представляющих собой заключительную стадию каскада фосфорилирования. Активность MAPK может быть ингибирована фосфатазами MAPK и ограничивает экспрессию генов воспаления. Экспериментальные данные свидетельствуют о быстром нетранскрипционном действии КС на подавление воспалительных сигнальных путей c включением MAPK [17].
Другие исследования показывают, что мембраносвязанные GR непосредственно вызывают активацию нижестоящих внутриклеточных сигнальных путей. Протеомный анализ клеточной линии лимфомы CCRF-CEM выявил 128 белков, которые дифференцированно регулировались специфической активацией mGR с использованием конъюгированного кортизола [18]. Ведущая роль в эффектах КС отводится каркасным/якорным белкам в качестве модулятора активации mGR, где относительные количества mGR, связанные с каркасными белками, играют решающую роль в опосредовании негеномных механизмов.
Гипотеза, объясняющая кортикостероидные эффекты, основана и на цитозольных механизмах GR, которые реализуются через взаимодействие с различными сигнальными процессами, контролируемыми такими медиаторами, как факторы роста, митоген-активируемые протеинкиназы, цитозольная фосфолипаза, липокортин 1, метаболиты арахидоновой кислоты, воспалительные пептиды и другие. Медиаторы, в свою очередь, принимают участие в выработке воспалительных цитокинов в условиях воспалительного каскада и могут блокироваться КС. Этот эффект считается зависящим от КС-рецепторов, но независимым от транскрипции GR.
ПРОБЛЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КОРТИКОСТЕРОИДАМ
Врожденная генерализованная резистентность к КС встречается очень редко и обусловлена мутациями в гене глюкокортикоидного рецептора. Например, инактивирующие гетерозиготные мутации гена NR3C1/GR служат причиной врожденной первичной генерализованной резистентности к КС или синдрома Хрусоса (Chrousos’ syndrome) [19].
Более значимой клинической проблемой является приобретенная резистентность к КС, которая определяется как потеря эффективности с течением времени и возникает вследствие хронического воспаления в генерализованной или локализованной (тканеспецифичной) форме. Были идентифицированы такие факторы резистентности к КС, как нарушение их выработки и доступности, полиморфизмы и мутации GR, активность изоформы GR, перекрестные взаимодействия GR с другими сигнальными путями, включая MAPK.
В одном из последних обзоров, посвященных изучению механизмов приобретенной резистентности к ГКС, подчеркивается важное значение негеномных механизмов действия этой группы препаратов, в частности активация MAPK и/или изменения в экспрессии их регуляторов в виде двухспецифичных фосфатаз (DUSPs), а также ведущая роль общих ключевых механизмов устойчивости к ГКС [20]. Противовоспалительная способность КС снижается или теряется в условиях чрезмерной активации MAPK. Поскольку взаимодействия между GR и MAPK являются тканеспецифичными и, следовательно, зависят от заболевания, авторами проанализированы результаты экспериментальных исследований по применению ГКС при ЯК и БК. Известно, что эффективность этих лекарственных средств при ВЗК, наряду с прочим, зависит от их способности восстанавливать барьерную функцию кишечного эпителия. Клаудины-2 и -4 и компоненты плотного соединения регулировались DUSP1 в дополнение к MAPK, а ингибирование этого фермента предотвращало ГКС-контроль проницаемости плотных соединений в эпителиальных клетках кишечника, что способствовало снижению чувствительности пациентов к КС [21].
Фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (MIF), является цитокином, который обладает мощным антикортикостероидным действием и может быть вовлечен в патогенез ЯК. В рефрактерных к КС случаях применение антител к MIF в образцах толстой кишки больных ЯК восстанавливало чувствительность к этому классу препаратов [22].
Сокращение пула доступных GR влияет на чувствительность к гормонам и в конечном итоге может вызвать резистентность к КС. Сниженная экспрессия GR может быть обусловлена увеличением циркулирующих эндогенных КС или длительным воздействием стероидной терапии. Парадоксально, но как избыток, как и дефицит КС, часто имеют общие черты по причине существования множества прямых и обратных связей, направленных на ограничение дисбаланса передачи сигналов, что в конечном итоге может привести к адаптации или приобретенной резистентности к КС. Воспаление или длительное лечение этими препаратами влечет за собой появление аномальных уровней эндогенных КС. Помимо выработки КС надпочечниками, такие ткани, как тимус, кишечник, головной мозг и кожа, экспрессируют функциональные эквиваленты гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, которые позволяют синтезировать этугруппу веществ de novo. Такая локальная выработка КС все чаще признается в качестве механизма, опосредующего быстрый контроль иммунной активации, что при определенных условиях, вызывает снижение чувствительности к экзогенным стероидам [23].
Quatrini L. et al. также пришли к выводу о том, что сниженная экспрессия GR может быть обусловлена увеличением циркулирующих эндогенных или синтетических КС, а также длительным применением стероидной терапии [24]. В работе Dendoncker K. et al. показано влияние провоспалительного цитокина фактора некроза опухолиальфа на транскрипционную активность GR, но не на ядерную транслокацию, димеризацию или ДНК-связывающую способность GR с возможной невосприимчивостью GR к КС [25].
Таким образом, расшифровка сложной реакции организма на воздействие КС остается актуальной задачей. Конечным эффектом этой группы препаратов становится комбинация многих, иногда даже противоположных реакций различных типов клеток, которые зависят от специфических транскрипционных программ, возникающих в результате сложной интеграции сигналов. Недавние исследования, в которых использовались более специфические, чем в прошлом, экспериментальные подходы, внесли свой вклад в расшифровку механизмов действия КС [16, 20, 23–25]. Эти исследования показали, что молекулярный ответ на воздействие КС тканеспецифичен и регулируется клеточным микроокружением, зависящим от повреждения (типа воспаления) тканей. Противоречивые воздействия на экспрессию генов воспаления формируются многими факторами, зависящими от разных доз системных КС. Снижение ответа на КС в клинической практике может быть обусловлено применением как малых, так и больших их доз. Оценка у пациентов чувствительности к КС важна для прогнозирования их эффективности.
Современные представления о КС-сигнализации в организме основаны на многих достижениях в области фармакокинетики и фармакодинамики. Однако некоторые ответы на важные вопросы механизмов действия КС, особенно в разных дозах, остаются до конца невыясненными [26].
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМНЫХ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
ГКС относятся к классу синтетических стероидов с иммуносупрессивными свойствами. Их назначают при широком спектре патологических состояний, в том числе и при ВЗК. При этом применение системных КС ассоциировано с потенциально серьезными метаболическими, сердечно-сосудистыми и костно-мышечными побочными эффектами, а также нейропсихическими реакциями, такими как депрессия, мания и когнитивные нарушения [27]. Поэтому следует особо строго соблюдать показания, схемы дозирования и длительность приема КС.
Серьезные нежелательные явления и развитие резистентности к системным КС большинство авторов связывает с превышением их допустимых дозировок и оптимальной продолжительности лечения. Если в отношении длительности лечения все авторы едины во мнении о том, что системные КС должны применяться только для индукции ремиссии ЯК и БК с продолжительностью терапии до 12 нед, то в отношении оптимальных доз существуют разные мнения.
Начало широкому применению КС в лечении ВЗК было положено в 1955 г. после публикации результатов плацебо контролируемого исследования Truelove S.C. и Witts L.J. у больных ЯК различной тяжести с использованием кортизона [28]. В этом исследовании 210 больным ЯК с различной протяженностью поражения толстой кишки и степенью клинической активности был назначен кортизон перорально в течении 6 нед в начальной дозе 100 мг. Было получено достоверное улучшение в группе лечения по сравнению с плацебо. В целом ремиссия была достигнута у 41,3% больных в группе кортизона против 15,8% в группе плацебо. Авторы отметили, что кортизон был особенно полезен при первых приступах болезни.
КОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
Единственное сравнительное исследование применения разных суточных доз перорального преднизолона у больных ЯК легкой и средней тяжести было выполнено Baron J.H. et al. в 1962 г. [29]. Разным группам пациентов преднизолон назначался по 20, 40, 60 мг/сут. Лечебный результат препарата в дозе 20 мг оказался недостаточным, тогда как дозировки 40 и 60 мг были одинаково эффективны. Для лечения ЯК средней тяжести авторами было рекомендовано использовать дозу преднизолона 40 мг/сут внутрь в течение 7 дней с последующим снижением на 5 мг в неделю в течение 8 нед.
Дозы преднизона 40 и 60 мг были использованы у амбулаторных пациентов в сравнительном исследовании Lennard-Jones J.E. et al. [30]. Преднизон оказался значительно эффективнее салазопирина и топического гидрокортизона. Ремиссия наступила у 33 из 51 пациентов, получавших преднизон в период 3 нед после начала лечения.
Практически такой курс лечения системными КС рекомендуется международными экспертами и в настоящее время. Так, в третьем европейском консенсусе по диагностике и лечению ЯК [31] стратегия применения КС основана на тяжести, распространении и характере заболевания, которое включает частоту рецидивов, течение болезни, реакцию на предыдущие лекарства, побочные эффекты лекарств и внекишечные проявления. Подчеркивается, что важно отличать пациентов с тяжелым ЯК, требующих госпитализации, от пациентов с легкой или умеренно активной формой заболевания, которых можно лечить амбулаторно. Системные КС, согласно рекомендациям, подходят пациентам с умеренной или тяжелой активностью, а также больным с умеренной активностью, не отвечающим на лечение месаламином. Для лечения умеренно активного заболевания рекомендовано назначать преднизолон в дозе 40 мг/сут в течение 1–2 нед, при дальнейшем снижении дозы на 5 мг в неделю, т.е. в общей сложности курс терапии составляет 8 нед.
У всех пациентов с тяжелой формой ЯК КС для внутривенного введения остаются основой традиционной терапии. В лечении тяжелой атаки ЯК Truelove S.C. et al. использовали метилпреднизолон в дозе 60 мг/сут [32]. К окончанию 5-дневного курса у 36 пациентов из 49 отмечалась полная ремиссия. Анализ последующих исследований с внутривенным введением КС при тяжелой атаке ЯК показал, что дозы метилпреднизолона более 60 мг/сут не приводили к существенному возрастанию эффекта, однако при меньших дозах эффект лечения снижался [33]. Применение больших доз КС в комбинации с иммуносупрессорами вызывало возрастание числа побочных эффектов [34, 35].
Принципиальным отличием Европейского консенсуса по лечению ЯК 2022 г. [36] является то, что в соответствии с его положениями системные КС при умеренном и тяжелом ЯК у негоспитализированных пациентов назначаются внутрь. Дозы при этом не обсуждаются и остаются прежними, как в двух клинических исследованиях [29, 30]: 40–60 мг преднизолона в сутки. Был проведен дополнительный метаанализ с расчетом относительного риска (ОР) индукции клинической ремиссии, который составил 2,83 (95% ДИ: 1,79–4,46]. Качество доказательной базы было оценено как низкое, но обширный опыт применения системных стероидов в клинической практике и благоприятный баланс между их потенциальной пользой и риском при использовании в течение ограниченного периода времени подкрепляют рекомендацию перорального применения преднизолона (метилпреднизолона).
В рекомендациях Британского общества гастроэнтерологов (BSG) по лечению ВЗК у взрослых [37] указано, что, хотя оптимальная доза и режим приема системных КС при ЯК не определены, текущая рекомендация по применению начальной дозы преднизолона 40 мг/сут основана на исследовании Baron J.H. et al. [29], в котором такая дозировка оказалась эффективной у больных со средней и тяжелой степенью указанного заболевания.
В клинических рекомендациях Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) [38] для пациентов с ЯК легкой и умеренной степени, рефрактерных к оптимизированной пероральной и ректальной терапии препаратами 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК), независимо от степени заболевания предлагается добавлять либо пероральный преднизолон, либо будесонид MMX. Рекомендованная доза перорального преднизолона в этом случае составляет 40 мг/сут.
КОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА
Было выполнено два крупных исследования по применению КС для индукции ремиссии при БК. Одно из них включало 162 рандомизированных пациента, получавших преднизон внутрь 0,50– 0,75 мг/кг/сут (более высокая доза применялась у более тяжелых пациентов), с последующим снижением дозировки в течение 12 нед. Ремиссия была достигнута у 60% больных в сравнении с 30% в группе плацебо, показатель NNT (Number Needed to Treat – число больных, которых необходимо лечить) равнялся 3 [39].
В другом, 18-недельном исследовании 105 пациентов БК при использовании метилпреднизолона 1 мг/кг/сут ремиссия была достигнута у 83% больных в сравнении с 38% в группе плацебо (NNT=2) [40].
В систематическом обзоре Benchimol E. et al. [41], посвященном применению традиционных КС в терапии БК, было продемонстрировано, что эти препараты значительно эффективнее плацебо в индуцировании ремиссии (ОР 1,99; 95% ДИ: 1,51–2,64; p <0,0001) и более эффективны, чем препараты 5-АСК (ОР 1,65; 95% ДИ: 1,33–2,03; р <0,0001).
Эти исследования были положены в основу дальнейших международных клинических рекомендаций по использованию системных КС у больных БК. Так, в третьем Европейском консенсусе 2016 г. [42] эксперты рекомендуют индукцию БК илеоцекальной локализации средней тяжести проводить топическими или системными КС. При редких рецидивах могут быть назначены повторные курсы.
Согласно рекомендациям Американского колледжа гастроэнтерологов (ACG), для лечения активной БК могут быть использованы дозы преднизона 40, 60 мг или 1 мг/кг веса в сутки [43].
БК с расширенной локализацией в тонкой и толстой кишке первоначально предлагается лечить системными КС. В клинических рекомендациях Европейской организации по изучению болезни Крона и язвенного колита (ECCO) 2020 г. [44] больным БК средней и тяжелой степени предлагается назначать системные КС для индукции ремиссии с использованием перорального метилпреднизолона в дозе 48 мг/сут или перорального преднизолона в дозе 0,50–0,75 мг/кг массы тела, но не более 60 мг/сут, с постепенным снижением дозировки до полной отмены в течение 8–12 нед. Следует подчеркнуть, что в клинических гайдлайнах использовался различный подход к расчету дозы системных КС (в фиксированном количестве или в дозе мг/кг).
В рекомендациях BGG по лечению ВЗК у взрослых [37] указано, что при умеренной или тяжелой форме БК независимо от локализации заболевания следует назначать преднизолон внутрь в дозе 40 мг/сут.
РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
В российских рекомендациях 2015 г. по лечению взрослых пациентов с ЯК [45] при среднетяжелой атаке предложено применять пероральный преднизолон в суточной дозе 1 мг/кг/сут. При БК средней тяжести для индукции ремиссии российскими экспертами рекомендованы преднизолон 60 мг или метилпреднизолон 48 мг перорально в сочетании с иммуносупрессорами [46]. Такие дозы выбраны эмпирически по итогам анализа публикаций в отечественной и зарубежной литературе.
В российских стационарах, в частности в Государственном научном центре колопроктологии им. А.Н. Рыжих, для купирования тяжелой атаки ВЗК применяли преднизолон в дозе 2 мг/кг/сут [47]. В работе А.О. Головенко [48] в исследование было включено 139 больных с тяжелым ЯК. По клинической картине и исходам лечения больных можно было отнести к острому ЯК по зарубежной классификации или сверхтяжелому ЯК по российской. Удовлетворительный клинический ответ на внутривенную терапию преднизолоном (2 мг/кг массы тела) был получен у 67 из 139 пациентов (48,2%). Из остальных 72 больных, у которых терапия оказалась неэффективной, 29 была выполнена колэктомия (21,5%). В связи с этим можно вспомнить зарубежный систематический обзор 32 исследований стероидной терапии при остром ЯК с участием 1991 пациента, выполненный в 2007 г. Turner D. et al. Согласно его результатам, общий ответ на стероиды составил 67%, а 29% пациентам пришлось провести колэктомию. Авторы не смогли найти никаких подтверждений целесообразности назначения метилпреднизолона в более высокой дозе, чем 60 мг/сут, при этом ими не было выявлено связи между дозой метилпреднизолона и необходимостью выполнения колэктомии [33].
В российских рекомендациях 2021, 2023 гг. [49, 50] больным с левосторонним и тотальным ЯК средней тяжести при неэффективности препаратов 5-АСК и наличии протяженного воспаления рекомендуется назначение системных КС в дозе, эквивалентной преднизолону 1 мг/кг массы тела, до достижения клинического ответа с последующим снижением дозировки. При тяжелой атаке ЯК системные КС назначаются в качестве первой линии терапии внутривенно в дозе, эквивалентной преднизолону 2 мг/кг массы тела. При большой массе тела предлагается применение КС в дозе 1,5 мг/кг, ответ на терапию оценивается через 3–7 дней. Если в течение 3 дней состояние пациента стабильное, то лечение продлевают до 7 дней. При клиническом улучшении терапию КС можно продолжить до стабильного улучшения и затем перейти на пероральный прием препаратов. При сверхтяжелом ЯК любой протяженности внутривенная дозировка КС эквивалентна дозе преднизолона 2 мг/кг массы тела пациента.
Пациентам с БК [51] системные КС назначаются в зависимости от локализации и степени тяжести процесса. При илеоцекальной локализации средней тяжести и наличии воспалительного инфильтрата или воспалительного сужения кишки системные КС используются перорально в начальной дозе 0,75–1,00 мг/кг массы тела. Такая же доза рекомендована для больных БК средней тяжести с локализацией в толстой кишке. Пациентам с БК тяжелой степени предлагается увеличить дозу до 1–2 мг/кг массы тела. Продолжительность терапии системными КС не должна превышать 12 нед. Официального системного исследования зависимости эффекта терапии ВЗК от дозы преднизолона никогда не проводилось. В отдельных исследованиях было показано, что длительное применение КС не поддерживало ремиссию заболевания.
Отметим, что во всех клинических рекомендациях прослеживается несогласованность предложений по назначению доз системных КС и способов их расчета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на 70-летний опыт использования системных КС в лечении ВЗК, разработку и применение в настоящее время большого арсенала новых эффективных лекарственных средств, стероидным препаратам все еще отводится основная роль в индукции ремиссии ВЗК средней и тяжелой степени. Вместе с тем четких, однозначных и общепринятых рекомендаций по применению этой группы препаратов в разносторонней клинической практике пока так и не разработано. Применяемые дозы КС варьируют от 40 до 60 мг преднизолона внутрь или 0,5–1,0 мг/кг при средней тяжести болезни. Для тяжелой степени указаны дозы от 60 до 75 мг и даже до 2 мг/кг массы тела внутривенно с последующим переходом на прием внутрь.
В большинстве зарубежных аналитических обзоров рекомендуемая пероральная доза преднизолона для амбулаторных пациентов ЯК и БК средней и тяжелой степени не превышает 40 мг, при этом тяжелым стационарным больным назначают метилпреднизолон внутривенно по 60 мг курсом от 3 до 7 дней. Дальнейшая тактика определяется индивидуально в зависимости от ответа на индукционное лечение. Дозы КС и их расчет базируются на зарубежных исследованиях достаточно низкого качества научной доказательности, проведенных в относительно давнее время [52]. В российских рекомендациях предлагаемые дозы системных КС выше, чем в зарубежных руководствах, но также основаны на эмпирических экспертных оценках.
В целом в этой сфере остается много нерешенных вопросов, таких как эффективность первого и последующих курсов лечения, выбор дозировки при пероральном и внутривенном введении, частота развития резистентности к КС и токсических эффектов при использовании высоких и низких доз, критерии низких или высоких доз. Существуют также разногласия по поводу расчета дозы КС: фиксированная в миллиграммах (мг) или в миллиграммах на килограмм (кг) массы тела пациента.
Единственным научно обоснованным способом решения проблемы доказательности и объективизации адекватности клинического применения оптимальных доз КС для лечения больных ВЗК является построение и анализ зависимости «доза–эффект» в заданном диапазоне исследуемых дозировок. Такая возможность появилась после разработки новой технологии построения и анализа функции эффективности (зависимости «доза–эффект») по исходным данным применения у больных разных дозировок лекарственных препаратов, в том числе КС, и результатам формирования ожидаемого клинического ответа на основе заданных конечных точек [53].