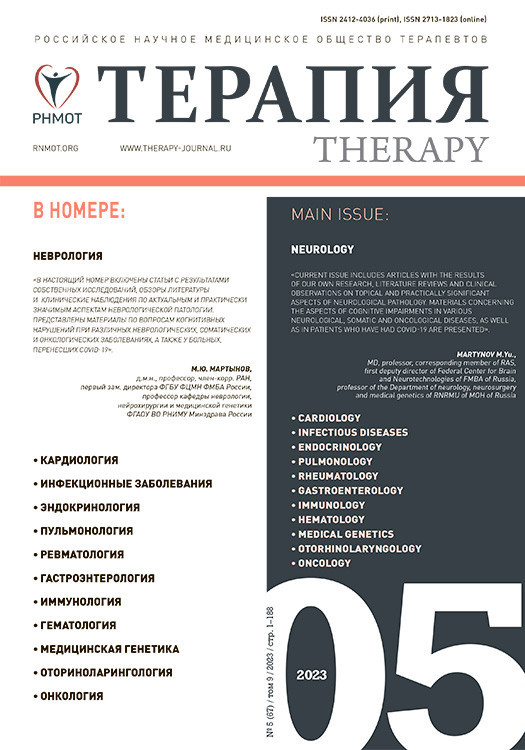ВВЕДЕНИЕ
Рассеянный склероз (РС) – мультифакторное хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы (ЦНС), проявляющееся ремиттирующе-рецидивирующим, вторично-прогрессирующим и первично-прогрессирующим типами течения, для которых характерна разная скорость прогрессирования неврологических расстройств и соответственно разные подходы к фармакотерапии современными дорогостоящими препаратами [1, 2]. Применение общепринятых диагностических критериев Мак-Дональда [3] возможно уже на ранних стадиях заболевания. Благодаря их высокой чувствительности установление диагноза РС, как правило, не вызывает затруднений. В качестве инструментального подтверждения РС выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). При проведении неврологического осмотра как на этапе диагностики, так и мониторинга лечения РС стандартно используется шкала функциональных систем по Куртцке [4] с расширенной шкалой инвалидизации (Expanded Disability Status Scale, EDSS).
В то же время гетерогенность течения и выраженности патологических процессов в ЦНС при РС указывает на актуальность и возможность использования лабораторных показателей на этапах ведения больных, страдающих этим заболеванием. Отражающие патогенез РС лабораторные показатели могут стать более ранними и динамичными биомаркерами активности и прогрессирования заболевания, а также индивидуального ответа на лечение по сравнению с клиническими и радиологическими характеристиками статуса пациента.
Общепризнанных специфических лабораторных биомаркеров течения РС пока нет. Во всем мире проводится активный поиск и стандартизации характеристик каждого из потенциальных биомаркеров, определение их информативности в отношении типа течения РС, эффективности и прогноза исхода проводимого лечения. Разнородность дизайна исследований, методов определения и референтных пределов лабораторных маркеров не позволяет в настоящее время провести метаанализ исследований и сделать доказательное заключение по рассматриваемому вопросу. Однако необходим и возможен анализ имеющихся данных для определения наиболее перспективных дальнейших разработок и «белых» пятен.
Цель обзора – описательный аналитический обзор результатов исследований о наиболее перспективных потенциальных биомаркерах течения РС. Обзор основан на анализе публикаций, полученных поиском за последние 20 лет в базах eLibrary, PubMed по следующим ключевым словам: «биомаркер», «рассеянный склероз», «прогрессирование инвалидности», «кровь», «спинномозговая жидкость».
1. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Согласно современной концепции патогенез РС включает сочетание взаимосвязанных процессов воспаления и нейродегенерации [5, 6]. Инициация воспалительного процесса включает активацию CD4-клеток в крови и периферических лимфоидных органах. Дальнейшее развитие иммунного воспаления во многом зависит от проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Повышенная проницаемость ГЭБ способствует массовому проникновению аутореактивных T-клеток в ЦНС при участии различных молекул адгезии, повышенная экспрессия которых выявлена как на эндотелии ГЭБ, так и очагах РС в веществе мозга [7]. В ЦНС развивается нейровоспаление, обусловленное вторичной активацией микроглии и астроглии [8, 9], интратекальное воспаление при участии моноцитов/макрофагов, Т- и В-лимфоцитов с системной и локальной продукцией аутоантител к компонентам олигодендроцитов, ведущей в конечном итоге к демиелинизации и гибели олигодендроцитов [10–12].
При прогрессирующих формах РС на периферии, как правило, отсутствует активный аутоиммунный процесс, воспаление локализуется непосредственно в ЦНС [13]. При этом уже на ранних этапах заболевания включаются процессы нейродегенерации, усиление которых с течением времени и обусловливает прогрессировании РС и необратимую инвалидизацию пациентов [14]. Установлено, что даже в период клинической ремиссии продолжается гибель осевых цилиндров нервных волокон, олигодендроцитов, что приводит к апоптозу нейронов [5]. Таким образом, прогрессирование РС – это результат кумулятивного повреждения ЦНС вследствие хронического иммунного воспаления и нейродегенерации. Механизмы повреждения ЦНС включают множество патобиохимических процессов, в частности оксидативный стресс и митохондриальную дисфункцию, инициирующие апоптоз [15].
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
2.1. Показатели повреждения/активации глии
Глиальный фибриллярный кислый белок (Glial Fibrillary Acidic Protein, GFAP) – мономерный белок промежуточных филаментов III типа. Функция GFAP к настоящему времени точно не установлена. Предполагается, что этот белок, продуцируемый в ЦНС, в основном астроцитами, играет роль в поддержании формы и механической прочности этих клеток [16].
Выявлены повышенные уровни GFAP в спинномозговой жидкости (СМЖ) больных РС и их различие в зависимости от типов течения заболевания. По результатам метаанализа при рецидивирующе-ремиттирующем типе течения РС концентрация GFAP в СМЖ выше, чем при других типах течения [17]. В связи с этим высказывается мнение о возможности использования GFAP для прогнозирования типа течения РС на доклинических стадиях. Поскольку с увеличением продолжительности РС нарастает выраженность астроглиоза, сопровождающего прогрессирование неврологических расстройств, GFAP рассматривается и как кандидат в биомаркеры прогрессирования заболевания [18].
Белок S100β – связывающий кальций белок глиальных клеток. Самые высокие уровни этого белка в СМЖ и в сыворотке крови обнаруживаются у пациентов с первично- и вторично-прогрессирующим типами течения РС, для которых характерно наиболее быстрое нарастание тяжести неврологических расстройств [19]. При этом не найдено корреляции белка S100β с изменениями в неврологическом статусе по шкале инвалидизации EDSS [20], что ограничивает его использование как показателя глиальной дисфункции и биомаркера прогрессирования РС.
2.2. Показатели демиелинизации и повреждения аксонов
Легкая цепь нейрофиламента (Neurofilament light chain protein, NfL) – это белок цитоскелета, участвующий в формировании структуры аксонов [21]. Высвобождение NfL в спинномозговую жидкость при ремиттирующем РС сопряжено с усилением активности воспаления, подтвержденным по данным МРТ увеличением гиперинтенсивных T2-очагов и накапливающих гадолиний очагов поражений ЦНС, а также увеличением количества участвующих в нейровоспалении CD4-лимфоцитов [22, 23].
Предполагалось, что степень повышения уровня NfL в плазме крови может служить показателем выраженности нейродегенерации, но закономерность взаимосвязи уровня NfL с выраженностью неврологического дефицита по EDSS подтвердить пока не удалось [18].
Выявлено прогностическое значение повышенных уровней NfL в СМЖ в отношении перехода в РС клинически и/или радиологически изолированного синдрома – впервые установленного неврологического эпизода, вызванного воспалением или демиелинизацией нервной ткани [18].
Согласно последним диагностическим руководствам, диагноз РС может быть установлен, если клинические симптомы и/или параклинические данные подтверждают диссеминацию патологического процесса во времени и пространстве [24], поэтому обнаружение повышенного уровня NfL в крови или СМЖ у лиц с указанным синдромом в совокупности с установленными диагностическими критериями может сократить период диагностики, а следовательно, начать лечение, предотвращающее переход клинически изолированного синдрома в РС [3]. Отметим, что в настоящее время в дополнение к клиническим и МРТ-критериям при диагностике РС рекомендуется использовать индекс IgG – превышение более чем в 0,7 раз,соотношения концентраций IgG и альбумина в СМЖ по сравнению с таковым в сыворотке крови [25]. Для уровней NFL в СМЖ больных РС продемонстрировано многократное превышение в сравнении с таковыми в сыворотке крови, а также более тесная корреляция с воспалительным профилем ЦНС [26]. Однако использование СМЖ для измерения концентрации NFL при мониторинге лечения пациентов имеет очевидные ограничения в связи с необходимостью проведения пункции.
Затруднения практического применения NfL связаны и с персистированием повышенного уровня этой молекулы при других нейродегенеративных заболеваниях, помимо РС, а также с зависимостью концентрации NfL от возраста и индекса массы тела [27]. Поэтому использование одного лишь NfL для мониторинга активности РС признано нецелесообразным [25].
Тау-белок, участвующий в стабилизации микротрубочек аксонов, признан специфичным биомаркером при болезни Альцгеймера [28]. В случае РС тау-белок рассматривался как потенциальный биомаркер утраты аксонов, поскольку показано его накопление в СМЖ при повреждении нейронов [29]. В настоящее время возможность применения тау-белка как биомаркера течения РС вызывает сомнения у специалистов из-за противоречивости данных о сопряженности ликворного содержания этого белка с тяжестью, типами клинического течения РС, выраженностью неврологических нарушений и МРТ-картиной при этом заболевании [29].
Основной белок миелина, продуцируемый олигодендроцитами, был одним из первых предложен в качестве биомаркера активности РС, поскольку он закономерно определяется в более высокой концентрации в крови и СМЖ больных РС при обострении заболевания по сравнению со стадией ремиссии [30]. Отдельными исследованиями выявлена корреляция уровня этого белка с выраженностью неврологических расстройств по шкале EDSS [31]. Тем не менее использование уровня основного белка миелина для мониторинга прогрессирования РС представляет собой не решенную задачу, что отчасти может объясняться процессами частичной ремиелинизации очагов демиелинизации в ЦНС при РС [25, 32].
2.3. Показатели активности иммунного воспаления
Растворимая форма sCD40L – трансмембранного гликопротеида семейства факторов некроза опухолей, как полагают, в перспективе может использоваться в качестве биомаркера для различения вторично-прогрессирующего РС и рецидивирующе-ремиттирующего течения РС, а следовательно, индивидуализации тактики лечения заболевания уже на ранних этапах ее манифестации [33]. Показано, что, в отличие от ремитирующего РС, при вторично-прогрессирующем течении этого заболевания наблюдаются не только более высокие концентрации sCD40L, но и бόльшая провоспалительная активность этого цитокина [33].
Свободные каппа-цепи иммуноглобулинов могут использоваться как дополнительный маркер при диагностике РС, поскольку их уровень в СМЖ превосходит по диагностической чувствительности и специфичности практикуемый тест с олигоклональными полосами иммуноглобулинов [34, 35]. Кроме того, этот уровень положительно коррелирует со степенью инвалидизации пациентов с РС, что дает основания рассматривать количественный тест на свободные каппа-цепи иммуноглобулинов в качестве кандидата в биомаркеры прогрессирования РС [34, 35].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не вызывает сомнений, что исследования лабораторных биомаркеров необходимы для доклинической интегральной оценки эффектов факторов риска РС, а у пациентов с установленным диагнозом РС – для прогнозирования скорости прогрессирования болезни, выбора и мониторинга фармакотерапии в кратчайшие сроки от начала ее применения. Лабораторное тестирование биомаркеров при РС может быть также полезно для оценки эффективности новых методов лечения и лекарственных препаратов.
Интенсивные научные исследования, касающиеся патогенеза РС, привели к открытию множества молекул, происходящих из клеточных элементов вещества мозга, содержание которых в крови и СМЖ довольно тесно коррелирует с выраженностью визуализируемых повреждений ЦНС, экзацербацией и/или особенностями клинического течения РС. Применение современных лабораторных технологий и, несомненно, обширный спектр коммерческих реагентов для определения рассмотренных в обзоре молекул способствуют быстрому накоплению новых фактов об этих кандидатах в лабораторные маркеры РС. Однако для того, чтобы их измерение стало частью медицинской практики, необходимы всесторонний анализ клинической информативности этих лабораторных тестов и решение ряда вопросов, касающихся аналитической точности и доступности их измерения. Практическое использование потенциальных биомаркеров течения РС затрудняют также низкая чувствительность и специфичность многих из них в отношении клинических особенностей РС, отсутствие стандартизованных методов исследования, надежно установленных «порогов» принятия клинического решения, доказательных рекомендаций по оптимальным профилям маркеров РС.
Одним из путей решения этих проблем интенсивно развивающегося и, безусловно, перспективного для неврологической практики направления, получения доказательных заключений может быть выполнение не только «пилотных» научных исследований с последующим метаанализом их результатов, но и проведение многоцентровых проспективных исследований в различных популяциях больных РС.